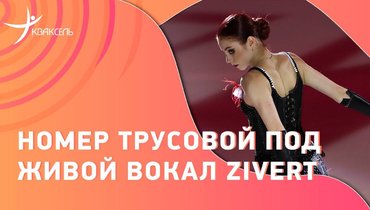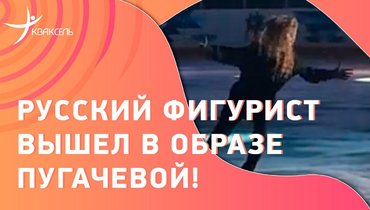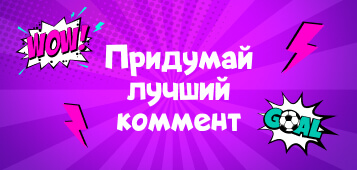Татьяна Тарасова: "Лишь после моей пятой победной Олимпиады отец сказал: "Здравствуй, коллега"
Сегодня у этой великой женщины юбилей. На ее даче в деревне Бузаево соберутся десятки умных, гордых и ярких гостей, среди которых не будет ни одного чужого. "Нужных людей не приглашаю, – рубит она со своей фирменной, знакомой всей стране интонацией. – Все – любимые. И если начальство – то тоже любимое". Хуже всего в жизни и ее отец, и она сама умели угождать начальству – так что верится в это безоговорочно.
Гостям не будет давать забыть о себе шестилетний пудель Шура, выдрессированный Татьяной Анатольевной до степени совершенно невообразимой. "Он же цирковой", – объясняет, но в то же время и слегка скромничает Тарасова. При мне Шура вопреки законам физиологии проскакал на задних лапах в стремлении за конфетой от хозяйки через всю гостиную, без труда делая обороты в 360 градусов. Если бы пудель ввинтился в воздух и прыгнул тройной тулуп – право, я бы не удивился. Это же собака Тарасовой.
Еще пять дней назад мы с Татьяной Анатольевной не были знакомы. Более того, мне и в голову не могло прийти, что однажды появится возможность с ней пообщаться. И что она перестанет быть для меня только человеком из телевизора, послушать которого я бежал через всю квартиру при первом звучании ее неповторимого голоса ("Меня теперь на базаре люди по голосу узнают, оглядываются!", – смеется она).
Бежал, потому что знал: интересна, индивидуальна, жгуча у нее каждая фраза. А возможность знакомства не могла прийти в голову из-за того, что оба своих интервью о фигурном катании я сделал ровно 20 лет назад. И первое, в чем признался Татьяне Анатольевне, когда дозвонился – что в ее виде спорта ничего не смыслю. Все равно ведь раскусила бы на первой же минуте.
Накануне главный редактор подал идею: мол, вы с Тарасовой родились в один день, сам Бог велел попробовать! В первый момент она, измученная в последние дни сплошными интервью, энтузиазмом не воспылала. Но когда речь зашла о хоккее, и с моей стороны прозвучало волшебное слово "отец", согласие вдруг было получено моментально. Так она относится к своей семье и своим корням.
И уже на следующий день мы два с лишним часа общались в величественной гостиной в окружении сотен фотографий на стенах, каждая из которых – историческая. Тарасова беспокоилась: "Вам не холодно? Здесь прохладно, как на катке". Господи, да даже если бы мы разговаривали на открытом катке, я бы на первой минуте перестал температуру замечать.
А потом Татьяна Анатольевна кормила журналиста обедом, параллельно сурово отвечая на звонки с телеканалов с просьбой поговорить о Евгении Медведевой: "Поговорим, но запомните – не "поворота", а "оборота"!" Мне-то повезло – за два с лишним часа Тарасова на меня ни разу не осерчала. Это уже было достижение – с моим-то "знанием" предмета. Но ведь не только и не столько о фигурном катании я хотел с ней поговорить, ей-право...
Самое тонкое и сложное в разговоре с ней – ее паузы. Нет – Паузы. В такие секунды ты понимаешь, что имел в виду Станиславский. Иногда они могли продолжаться полминуты. И ты никогда не знал, конец ли это ответа или, напротив, оборот (не поворот!) мысли перед заходом на что-то еще более важное. И обязан был почувствовать, в какой именно момент имеешь право открыть рот. В одно из мгновений все-таки поторопился, сбил ее с мысли. И даже отсутствие заслуженного выговора меня не оправдывает.
Спустя полтора дня посмотрел о Тарасовой фильм на Первом канале. И понял (впрочем, и не сомневался), о скольком еще не спросил. Впрочем, мне ли жаловаться? Сам факт такого разговора для журналиста – счастье. И лучший подарок на день рождения, который только можно было представить. Не ей, понятно, – тут я не обольщаюсь. Мне...

ПАПА ПИСАЛ В ГАЗЕТЕ "ПРАВДА", ЧТО МЕНЯ НАДО УВОЛИТЬ
– Отец когда-нибудь говорил, что гордится вами? – спрашиваю Тарасову.
– Нет. А чем гордиться-то? У нас в семье установка была – каждый делает то, что может. На максимуме. Это просто правильно – так чем гордиться? Только после пятой моей победной Олимпиады он сказал мне: "Здравствуй, коллега".
И мама не хвалила. У нас это не было принято. Это не значит, что мы с сестрой – недолюбленные. Как раз наоборот. Но похвала с маминой стороны была одна. Вот здесь, на даче. Она сидела в тишине и вдруг сказала: "Танечка, какая же ты молодец. Построила своими руками такую дачу, где всем нам хорошо". Это все еще были живы. И я запомнила. А если бы часто хвалили – в память бы не врезалось.
– Вас же отец на тренерскую стезю и направил? После того, как вы получили серьезную травму, несовместимую с дальнейшим катанием.
– Да. Я вся была в печали, из которой папа меня вытряхнул. Не позволил долго в ней быть. Хотела танцевать, училась, поступала – и в "Березку", и в ансамбль Моисеева. Но рука моя была как тряпка. И отец сказал: "Иди на каток, помогай своим друзьям. Тренеров нет ни черта. Бери детей – и, если будешь хорошо работать, будешь счастлива всю жизнь". Так и оказалось.
Не знаю, как родители отпускали со мной своих детей. Мне было 20 лет, тем же Моисеевой с Миненковым – 12-13. Я была в беленьких носочках, беленьких тапочках "Дружба", в коротеньком платьице в горошек из ситца. Не знаю, откуда у меня была такая наглость, но уже тогда я была абсолютно уверена, что они будут чемпионами мира. При том что мы катались только на открытом катке, на закрытые нас еще не пускали.
А главное – у меня было чувство ответственности. Помню сбор под Ростовом-на-Дону. Там было 36 детей, включая Вову Ковалева (будущий двукратный чемпион мира, серебряный призер Олимпиады в Инсбруке. – Прим. И.Р.), за которым по всему лесу надо было мотаться, чтобы он никуда не пропал. Там плохо кормили. И тогда я шла в здание напротив, в горком партии. И по красной дорожке легко бежала через ступеньку в главный кабинет. Мне говорили: "Девочка, ты куда?" – "Туда, куда надо". И с этого дня кормили хорошо.
Дети, которые тебя окружают, видят это. И что-то к ним попадает. Они не могут наплевать на твой фанатизм, заботу о них. И в конце концов для них же лучше, если они не будут выпивать с 14 лет разливное вино. Потому что я буду стоять около этой бочки.
– Вы, кажется, актрисой хотели стать, а отец запретил поступать?
– Не актрисой. Я хотела поступать в ГИТИС на балетмейстерский. Но отец сказал маме: "Артистов у нас, Нина, в доме не было и не будет". Вопрос был закрыт. В итоге я постигала эту науку по ходу своей жизни. Мой муж Владимир Крайнев (выдающийся пианист и музыкальный педагог. – Прим. И.Р.) говорил, что я хорошо слышу музыку. Смотрела множество балетных спектаклей, была допущена к Игорю Моисееву на репетиции. На всех ступеньках в Кремлевском Дворце съездов сидела, смотрела все по тысяче раз, как и в Большом. Что-то попадало в меня, трансформировалось – в общем, ставила я очень много. Это было и остается моей страстью. И больше всего скучаю по тому, что не ставлю.
Я видела изнанку папиной славы. Как он работает, как отдается. И как страдает. Поэтому с самого начала понимала, что эта профессия – не сахарная. Но было так интересно, так захватывало! В том же Ростове мы с подругой Ирой Люляковой открывали каток – там не было ни заливщика, ни машины. А были только два шланга. И вот мы с ней чистили, заливали лед, потом на нем катались. И так – четыре раза в день. На одну заливку уходил час. Зато мы знаем, как руки стынут.
Но это все равно была очень счастливая жизнь. И есть. Если бы не болезни и смерти моих близких. Это самый тяжелый момент. Но, наверное, он у всех случается, и его надо как-то пережить. Я пережила. Потому что я-то – жива...
– Неужели, когда вы начинали, все эти классические стереотипы вроде "На детях гениев природа отдыхает", "Понятно, папа во всем ей помог" не вызывали соблазна выбрать другую профессию?
– А я все это не чувствовала. Просто пошла туда, где с первого дня стала нужна и счастлива. При том что папа писал в газете "Правда", что федерация фигурного катания, видимо, обалдела, что доверила молодой девчонке работать в сборной СССР. А просто так получилось, что я взяла пару, которая сразу попала в сборную.
– Постойте, Татьяна Анатольевна. Папа? О вас?
– Да-да. В "Правде". Что меня надо уволить.
– И вы ему дома ничего на это не сказали?
– А что я могла ему сказать? Это было его мнение! Еще не хватало, чтобы я ему что-то говорила. Он-то лучше знает. И более того – это, наверное, было правильно. Я была 20-летней девочкой, которая в танцах, извините, ни ухом ни рылом.
ЕСЛИ БЫ НЕ ЗНАЛА, ГДЕ МОИ СПОРТСМЕНЫ, – ПОКРЫЛАСЬ БЫ КОРОСТОЙ
– Разговаривал на днях с Михаилом Грушевским, и он сравнил сложность вашей карьеры при таком великом отце с Константином Райкиным.
– Я не хотела опозорить отца. Это было как бы неприлично – работать там, где папа. Поэтому я никогда не была в ЦСКА. Когда каталась – в "Динамо", когда работала – в профсоюзах.
– Папа не возражал?
– Об этом не было и речи.
– Меня всегда очень интересовала тема великой наследственности в спорте. Это – от природы? Передается ли на генетическом уровне умение управлять людьми?
– Думаю, что многое, конечно, от природы. Кровь же не водица. Миша Жванецкий писал своему сыну: "Сынок, имей совесть, а потом делай все, что хочешь". Потому что совесть не дает делать как попало. И та же ответственность, которая у меня с юных лет, – она же не из воздуха взялась. А от мамы и папы. Мама была не слабее папы. Прекрасно общалась с людьми, ее все обожали. И она вела большую работу с женами хоккеистов, которые ее очень любили. А скольких людей она вылечила от разных кошмарных заболеваний! Не жалела себя. Как и отец, и сестра Галя. У нас вся семья склонна к самопожертвованию.
Это нелегко. Но без этого невозможно. Нельзя ни за что не отвечать. Сейчас немножко другая пора. Иные тренеры, даже почти ведущие, могут не знать, где лечатся их спортсмены, где они проводят время между тренировками или после них, в выходные. Со мной это было невозможно. Я сошла бы с ума. Хоть они за границей, хоть в лесу – я должна знать, где они и с кем. Интересовалась этим не ради интереса, а ради процесса, который у меня в голове. Мы делали одно дело, поэтому я должна была знать, где находится человек. Конечно, им было тяжело. Не всегда они хотели говорить. Но они видели, что я схожу с ума, если не знаю. И жалели меня.
– Вас? Жалели?
– Да. Жалели, что я вся покроюсь коростой, аллергией. Потому что я за них отвечаю. И из-за такого отношения им стыдно работать вполсилы. До сих пор.
– Да, меня сразили слова Алексея Ягудина. Вы приехали на спектакль с его участием, и потом он сказал вам: "Ради бога, не приезжайте к нам часто. Я не в состоянии каждый раз выкладываться до такой степени, что утром невозможно встать с кровати". И это – спустя годы после окончания спортивной карьеры.
– Просто у них есть совесть. И они понимают: я знаю, что такое работать на 120 процентов, а что такое – на 30. Хотя в принципе они работают у Илюши (Авербуха. – Прим. И.Р.) каждый день на сто процентов. Но тогда я приехала, и Леша восемь тройных прыгнул, да и вообще вел свою линию от начала до конца. Я получила удовольствие. И они знают, что если не получу и что-то нехорошее увижу, то скажу им. И им неохота это слушать. Лучше постараться.
Говорю же: каждый должен делать все, что он может. Один человек – кататься. Другой – учить. Третий – строчить. Четвертый – дом строить. И если все это собрать вместе, то получится страна.
– Насчет "постараться". Одна из главных идей фильма "Легенда №17" – человеку всегда кажется, что он может сделать меньше, чем на самом деле.
– Конечно. Та же Наташка Бестемьянова говорила, что абсолютно мне верила, поэтому и побеждала. Главное – верить. И тогда человек сделает больше.
Один раз я привезла мужа из больницы после тяжелой операции. Ему выпилили ребро, и процесс восстановления был мучительным. Он как-то примостился, закрыл глаза – среди подушек на диване в своем кабинете, где стояли два рояля и летала такая энергетика, в которой погибали все цветы. Он как-то, может быть, первый раз со дня операции отключился. Вошла свекровь. Ей было лет 85. И дальше произошло то, что я запомнила на всю жизнь.
Она посмотрела на него и говорит: "Ну что, сынок, ленишься?" Тут уже даже я не выдержала: "Иля Моисеевна, ну вы что? Вы видите, что у него так болит, он весь белый!" "Ты, – говорит, – иди на кухню, котлеты подгорают". И ему: "Сынок, можешь руку поднять?" – "Нет, не могу". – "А ты подойди к роялю. И сегодня пять раз до него дотронься. А завтра – десять. А послезавтра – пятнадцать. Так, сынок, за неделю боль у тебя пройдет". Она была военным хирургом. Прошла всю войну. В 90 лет такие столы накрывала! И они с моим папой обожали друг друга. По-моему – не случайно.
– Правда, что отец каждый день выгонял вас маленькую на зарядку даже в лютый мороз? И многое ли дали вам эти экзекуции как будущему тренеру?
– Правда. И это не экзекуция. Папа же опережал время. И понимал, что я способная. Видел, как бегаю, прыгаю, какие у меня ноги быстрые – не то что сейчас. И я делала то, что он считал. Конечно, какой ребенок будет сначала делать это с удовольствием?
– Плакали?
– Нет. У нас не принято было плакать. Даже когда могли лупить – это сейчас нельзя, но ничего страшного, за вранье положено лупить. Нет, не папа. Мама. А с зарядкой – вошло в привычку. Ты бежишь, тебе холодно, а папа смотрит с балкона и говорит: "Надо бежать быстрее – и будет теплее". Хоть в Новый год, хоть в день рождения. Для меня потом 31 декабря заканчивать тренировку в 22.30 не было никакой проблемой.
– Дни рождения отмечали?
– Всегда и бурно. В семье это было принято. Обязательно приходили друзья. Сначала были бабушки, дедушки – теперь внучатые племянники... Вон фотография – мы с Милой Пахомовой. Очень дружили с детства. И всегда праздники справляли вместе.
Сначала нам накрывали стол. Потом – мы с Галей папе и маме. А затем – опять нам... Потом Гали не стало, мамы. Но я по-прежнему привожу на день рождения старых маминых подруг. Так и будет. В прошлом году ко мне вот сюда 70 человек пришло.
ОТЦА ОТЛУЧИЛИ ОТ ПРОФЕССИИ, ПОТОМУ ЧТО ОН НЕ СДАЛ ИГРУ ЧЕХАМ В САППОРО
– Разговаривал как-то со Скотти Боумэном. Он назвал себя учеником Тарасова.
– Да-да. Он даже папины перчатки – точнее, остатки от них – приклеивал к своим рукам, когда выходил на тренировки. Какой документальный фильм американцы сняли о папе в прошлом году! Он все премии там завоевал.
За океаном люди все о нем понимают и ценят. Это радостно, но обидно. Помню, Галя с отцом ездила в Бостон, я уже работала в Америке. Был сбор профессиональных тренеров, 500-600 человек. И папу туда пригласили. Он очень сильно хромал, ходил с костылем. Но решил, что на сцену выйдет без костыля. Мы очень волновались. Открылась дверь – и он пошел. Как по воздушной подушке. Весь зал встал. И стоял – сорок минут. Мы с Галькой плакали, как никогда в жизни. Папа был в белой безрукавке, чтобы живота не было видно. И вот он стоит – и все эти выдающиеся канадские тренеры ему рукоплещут. Потом он их потихонечку-потихонечку усаживал.
Вот такое там было отношение. А у нас – зависть страшная. Будь они прокляты, эти руководители. За то, что они папу от Суперсерии-72 отключили. У меня есть фотографии, где он еще задолго до того договаривается с Хрущевым насчет игр с канадскими профессионалами. Это был смысл его жизни. Брежнев подвел отца к Хрущеву, и папа сказал: "Мы больше не можем только тренироваться. Поверьте, что мы выиграем".
А потом его в 54 года отстранили от работы. И это был запрет на профессию. Он больше никогда не работал тренером. Это вообще не укладывается в голове. У нас тогда квартира была – как вот эта комната, и мы с мамой и сестрой так его жалели... Твари. Они убивали его.
– Кто именно?
– Руководители партии и правительства. Они уже вмешались в спорт – и гуляли там, рассказывали, кому тренировать и как. Они считали себя звездами. А года и века не по ним меряются.
– Роковую роль для Тарасова, пусть и не сразу, сыграл тот матч со "Спартаком" в 1969-м, когда он при Брежневе увел ЦСКА со льда?
– Нет. Тогда только заслуженного сняли. Я два раза в жизни видела его слезы. Один раз, когда мы с ним разбились на машине. У меня была черепно-мозговая травма, и с тех пор голова болит. Мне было семь лет. А второй раз – когда с него заслуженного сняли. Он прямо упал на кровать и плакал. Больше – никогда.
– Даже когда его ушли после Олимпиады в Саппоро?
– Да. Там все и произошло. Я слышала, что они, руководители эти, просили его сдать чехам последний матч, когда мы за два тура до конца выиграли турнир, и нам уже ничего не было нужно. А соратникам по соцлагерю надо было помочь опередить американцев и взять серебро. Они с Чернышевым отказались, команда выиграла, США стали вторыми, Чехословакия – третьей. И дальше была расправа. Я как раз в Саппоро начинала, приехала туда со своей парой. А папа, получилось, там закончил.
– Он показывал, как ему тяжело без работы?
– Мне говорил: "Не оглядывайся, дочка, надо смотреть вперед". Но мы все же на одной нитке. Так друг друга любили, что невозможно говорить даже. Да, злились иногда на него. Но это нормально. И все понимали, и все чувствовали.
Наша пресса не понимала значения его фигуры. Или не хотела понимать. Он сам писал много и по делу. Больше 40 книг написал – и сотни статей. И мне кажется, что журналисты и комментаторы испытывали к нему чувство ревности. Я, когда сейчас стала комментировать, тоже это ощущаю. К кому он тепло относился – так это к дяде Боре Федосову, который "Приз "Известий" организовал. Вон на стене моя самая любимая вещь висит. Дружеский шарж, на котором отец – дирижер, а вокруг все знаменитые хоккеисты. Это дядя Боря подарил.
Когда мы с папой входили во Дворец спорта (а в то время его вообще не показывали по телевизору), зал, состоявший из разных людей – армейцев, динамовцев, спартаковцев – вставал. Болельщики все понимали. А журналисты – нет. Они его все учить хотели.
– Почему именно тандем Чернышев – Тарасов достигал в сборной наивысших результатов?
– Я что, профессионал в этом деле? Папа – он практик. И занимался в основном тренировочной работой. Не только армейцы, но и динамовцы, и спартаковцы все равно на нем воспитаны. У Аркадия Ивановича были другие функции. Но папа с Кадиком находили общий язык.
– Кадиком?
– Да, он так его называл. Жену Чернышева звали Велта. И отношения с папой у них были очень хорошие, кто бы что там ни говорил. Семьями встречались, выпивали-закусывали. Из рюмочек вино пили. Да-да, из рюмочек! И ко мне Аркадий Иванович как к родной относился. Я же динамовка. И сыновья его для меня – как родные. Мы дети одного поколения. У Тарасова и Чернышева и могилы рядом.
– В Лиллехаммер-94 ваш отец на коляске приехал за год до смерти.
– Да, я там была. Меня просили Торвилл и Дин, чтобы я в Лиллехаммер с ними приехала. Заглянула к отцу с Галькой... Да он бы еще жил и жил, если бы наши врачи ему смертельную инфекцию не внесли. Гнойный сепсис. А у него чемодан был собран, чтобы на чемпионат мира ехать. Они его убили. В 76 лет.

СКАЗАЛА МЕНЬШИКОВУ "СПАСИБО". ОН ПОНЯЛ, ЧТО ПАПА ЗА ЧЕЛОВЕК
– Пару лет назад я разговаривал с одним из сценаристов "Легенды №17" Михаилом Местецким. И он рассказывал: "Тарасова была на премьере. И сказала режиссеру Николаю Лебедеву: "Вы не обижайтесь, но если мне не понравится, то я встану и уйду прямо посреди показа". Хоть один раз был позыв?
– Нет. Знаете, столько совершенно безобразных фильмов сделали об отце... В одном мама пьет не закусывая. Папа все время в качестве какого-то зверя выступает. И я это действительно сказала. В тот день мне позвонила Нина Зархи (кинокритик, завотделом зарубежного кино журнала "Искусство кино". – Прим. И.Р.) – и ей вообще заявила: "Не поеду". А она ответила: "Моя подруга была утром на журналистском показе. Тебе можно идти. Иди спокойно".
И Миша Куснирович сказал: "Ни на чем не настаиваю. Только прошу тебя приехать ко мне в ГУМ". А я его слушаюсь. Потому что он тот человек, общение с которым можно считать за большое счастье. И умница, и талант, и добрятина. Кстати, в знак любви к Куснировичу я решила свой день рождения справлять в его олимпийской форме. А то сейчас мы вообще не понимаем, в чьи руки это отдано. Мы все его форму любили, это был наш знак. Много лет ходили самые красивые и самые яркие. У нас всегда начинают что-то менять с самого хорошего. Рекомендовала бы им заняться чем-то другим. Как сказал Жванецкий, что-то не так в консерватории.
– В итоге вы все-таки поехали.
– Да. Даже специально не одевалась, приехала как есть. И очень благодарна, что испытала... такое. Странное чувство. В конце боялась даже на экран смотреть. Мне казалось, будто папа – здесь. Это и называется великой силой искусства. Честно. У меня даже два раза это было. Второй – когда мы поехали в Сочи, где фильм смотрела юниорская сборная России перед чемпионатом мира, и туда пришел Путин. И опять ко мне это состояние вернулось на нескольку секунд. Я вообще не могла спать. Такая у меня была связь с отцом.
Мне жаль, что они ко мне не обратились. Знала, что об отце снимают – и нашла много фотографий. Думаю, что можно было сделать его абсолютно похожим. Ведь у Олега Меньшикова в лице есть то, что было у отца в молодости. Есть у меня одно фото, где просто очень большое сходство. Но они позвонили, когда практически все сделали, и позвали меня на съемочную площадку. Спросила: "Зачем? У вас же все сделано. Не пойду".
Но это не важно. Потому что в итоге я ему (режиссеру Лебедеву. – Прим. И.Р.) позвонила и поблагодарила. И Меньшикову – тоже. Видимо, он просто понял, что папа за человек. А ведь по большому счету никто этим никогда не интересовался. Каждая его клетка была направлена на служение флагу. И для него это – Отечество, и это не было придумано. Так мы жили.
Мы дома ходили на цыпках. Потому что папа занимался государственным делом. Мы это чувствовали и знали. Нам говорила об этом мама, хотя сам папа – никогда. Он все время писал, писал, писал. А мы не могли потревожить его тишину.
– При том, что, по вашим давним словам, "хоть отец у нас и знаменит своим крутым нравом, мы его не боимся".
– Так и было. Никакого давления он на нас не оказывал. Только если на дачу приедешь, он сразу – лопату и в руки. "Копай!"
– Вы с ним по профессиональным делам общались?
– Мы со своей стороны – нет. Кто же дома говорит о работе? Но у него были какие-то рационализаторские предложения, и он шел – к Гальке, ко мне. Вливался в нашу жизнь. На дни рождения приходил – со своими соленьями, вареньями, бужениной. Все его обожали. А он обожал Вову Крайнева, его компанию. Все садились вокруг него – и Вовины друзья, и мои, и спортсмены.
Он ничего для нас не жалел. В магазины, правда, не ходил. Не вполне отчетливо знал, что они есть. Мог купить на одну ногу два сапога. Хоккеистам давал свои суточные, говорил, когда их распускал: "Таньке – красное, Гальке – голубое, Нинке – белое". Потом привозил, даже не заглядывая: "Вот это вам". Детали его не интересовали. У всех платки были одинаковые, мохеровые. Как будто одну форму на всех делали! (смеется) Но мы были обеспеченные. У нас были туфли.
Я ему все время старалась что-то привезти. Он говорил: "Дочка, ну зачем ты деньги тратишь? Хотя... очень удобные". У него был пиджак, пальто счастливое – короткое такое. Он его на все матчи надевал, как я – шубу. И рубашки белые. А обычно-то – в тренировочном. Мы всегда в ЧШ были одеты – чисто шерстяное. Хоть зимой, хоть летом. Жили без излишеств. Но у нас все было.
– А бывало, что чем-нибудь поразил?
– Один раз привез четыре чемодана. Мы с Галей – вообще в отпаде. Думаем – вот сейчас нарядимся с ног до головы! Тем более что у нас были серьезные планы на выходные. Открываем. А там – белые грибы. Набрал в Финляндии. Четыре чемодана. Грибы надо варить. Двое суток, не разгибаясь. Чистили, варили, мариновали, солили, закручивали...
Мы его жалели, баловали, конечно. Он неприхотливый был человек. Но, конечно, то, что от работы отлучили... Я вот тоже приехала из Америки, провела там десять лет, подготовила три – наши, заметьте, – золотые олимпийские медали. И мне было 58 лет. Но меня тоже на работу здесь не взяли. Катка не дали, школу не сделали. Нет, я не сравниваю себя с папой. Потому что папа – это целая планета. Но мне кажется, что даже по отношению ко мне это было нерационально.
Вторая часть интервью Татьяны Тарасовой выйдет сегодня в 18.00