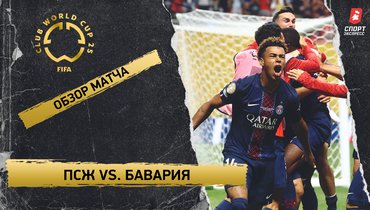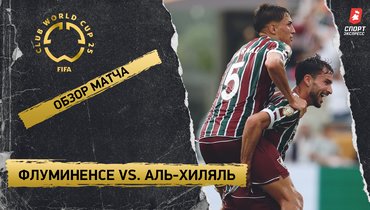«После смерти Сталина в лагерях начался террор. Заключенных расстреливали, как дичь». Брат Игоря Нетто 8 лет провел в ГУЛАГе
Игорь Нетто — легендарный капитан «Спартака» и сборной СССР, олимпийский чемпион Мельбурна 1956-го и обладатель первого Кубка Европы 1960-го. Умер в 69 лет — 30 марта 1999-го.
Лев Нетто скончался в 92 года — 17 сентября 2017-го, пережив младшего брата на восемнадцать с половиной лет. Лев Александрович не имел отношения к спорту, но событий в его жизни хватило бы на целый роман. Великая Отечественная, плен, неудачный побег, возвращение на родину, арест и приговор — 25 лет лагерей. Из которых он отсидел восемь, а потом был полностью реабилитирован.
В 2015-м Нетто-старший стал героем «Разговора по пятницам», где рассказал множество интересных историй и о младшем брате, и о своей драматичной судьбе.
Фамилия
— Нетто — эстонская фамилия?
— Итальянская. Родители — из Эстонии, а прапрадедушка в XVIII веке приехал туда из Италии работать садовником. Женился на местной девушке и остался. Мама перебралась в Москву в 1917 году, папа — чуть раньше.
— Он же входил в отряд латышских стрелков?
— Верно. В 1915-м государь взял их на службу. Но и революции пригодились. Им доверили охранять Ленина. А мама устроилась в канцелярию Наркоминдела. В какой-то момент ее начальником был Троцкий. И кумиром. Меня назвали в его честь.
— А брата?
— Мама все говорила: «Теперь у нас есть князь Игорь!» Он и держался всегда как князь.
— В семье на каком языке общались?
— На русском. Но эстонский и латышский я знаю. А Игорь по-эстонски выучил лишь пару слов да поговорку, которая переводится так: «В лесу покакай быстро, а то придет медведь и схватит за голую задницу». Кстати, в отличие от меня, его в паспорте записали русским.
— Почему?
— В 1939-м была перепись населения. На вопрос: «Национальность?» — я, как и родители, ответил: «Эстонец». А девятилетний Игорек внезапно заявил: «Я — русский!» У него даже в детстве на все было собственное мнение. Девушка, заполнявшая анкету, растерялась. Затем воскликнула: «Раз гражданин сообщил, что он русский, так и запишем».
— Латышских стрелков революция не пощадила. Но отца репрессии минули?
— Это чудо! В нашем доме на Сретенке жили шесть семей бывших стрелков. Постепенно люди начали пропадать. Мама рассказывала, что всякий вечер проходил в страхе, тряслись как осиновые листы.
В соседней квартире поселился латыш, однофамилец отца. Никакого отношения к стрелкам не имел. Как-то услышали разговор у их дверей: «Собирайся!» — «Это ошибка». — «Там разберутся!» Увели.
— С концами?
— Да. Получается, вместо отца. Его так и не тронули. Наверное, где-то фамилия значилась как «отработанный».
— В ГУЛАГе вы отсидели восемь лет. Игорь вам писал?
— Нет — ни брат, ни отец. Письма приходили лишь от мамы.
— Хоть раз откровенно поговорили с Игорем о том, что пережили?
— Да он вообще не спрашивал про плен и ГУЛАГ! Жена моя, кстати, тоже. И в своем кругу Игорь никогда эту тему не афишировал. В сборной СССР подобные беседы ему бы вряд ли помогли. А его футбольным друзьям я все рассказал на столетии Андрея Петровича Старостина. Прямо на кладбище.
— Как отнеслись?
— Настороженно. Не понимали, что я за птица. Не из их гнезда — это точно. Я написал книгу о сопротивлении в ГУЛАГе, о легендарном норильском восстании. В 1948-м на Красноярской пересылке вступил в подпольную Демократическую партию России, дал клятву: посвятить жизнь освобождению родины от коммунистического насилия. Поэтому книга называется «Клятва».
Война
— Где вы были 22 июня 1941-го?
— На даче в Звенигороде. Когда с братом услышали по радио, что началась война, обрадовались. Да все мальчишки ликовали. Мы же росли на песне: «Если завтра война, если завтра в поход...» Была уверенность, что Советский Союз сильнее всех, любого врага разобьем в пух и прах. На следующий день я с отцом отправился в Москву, а мама и Игорек вернулись поздней осенью.
К тому времени я уже год учился в артиллерийской школе. Сразу послали на строительство оборонительных сооружений. Копали на окраине города траншеи, устанавливали противотанковые «ежи». 16 октября нас со школой собирались эвакуировать. Утром пришли с дружком — никого. Школа почему-то раньше умотала, без предупреждения. Отец сказал: «Остаешься в Москве». Маме предлагал уехать с Игорем в эвакуацию, но она ответила: «Не надо разлучаться».
— Голодали?
— Не особо. Отец — в Наркомате среднего машиностроения. Я выучился в ФЗО на токаря и работал на заводе, обтачивал болванки для артиллерийских снарядов. Мама на машинке шила солдатское белье. У всех были продовольственные карточки. Плюс полмешка картошки, которую привезли из Звенигорода. Пекли с Игорьком лепешки из картофельных очисток.
31 декабря 1941-го кто-то из приятелей отца принес маленькую елочку. Отпраздновали Новый год. Между прочим, до 1936-го в домах запрещалось ставить елки — считалось, буржуазный пережиток.
— У вас была «бронь»?
— До марта 1943-го. В первые дни войны из моих друзей человек двадцать записались в ополчение. Погибли все. На немцев-то сначала шли с голыми руками. Оружия не хватало, командиры говорили: «Нет винтовки? Ладно, бери палку. Когда кого-нибудь убьют, возьмешь его винтовку...» А повестку я получил за две недели до 19-летия.
— Куда направили?
— В эстонскую стрелковую дивизию. Таскал 32-килограммовую станину пулемета максим. Задача — отвлекать немцев, не позволить им перебросить основные силы на Орловско-Курскую дугу. Палишь из максима минут десять и резко меняешь позицию, пока не накрыли минометным огнем. Как-то на моих глазах замешкались двое, их обстреляли из миномета. Кроме ног да покореженного пулемета ничего не осталось.
Вскоре приехали вербовать добровольцев в партизаны. Я согласился и оказался в Москве — в эстонском штабе партизанского движения. Носил депеши в центральный штаб, которым командовал Ворошилов.
— Маршала видели?
— Ни разу. Если приказывали дождаться ответа, пакет вручал кто-нибудь из его адъютантов. Через несколько месяцев перевели на курсы партизанских кадров. В группу подготовки инструкторов минно-подрывного дела. Ставили учебные мины на железной дороге, снимали часовых.
— Как правильно снять часового?
— Лучше всего — финкой в шею. Тихо и надежно. Правда, в реальной жизни этот навык применить не довелось... Наш отряд разбили на четыре боевые группы по 20 человек, повезли в Ленинград. Оттуда должны были десантироваться в тыл противника. Но все затянулось. Скрашивала ожидание водочка, которую выменивали в городе на буханку хлеба.
Дважды приезжали ночью на аэродром, садились в «дуглас», однако в воздух не поднимались. Возвращались на базу и продолжали валять дурака. Последние беззаботные деньки.
— Когда они закончились?
— В феврале 1944-го. С третьей попытки улетели. В хорошем настроении, с песнями...
— Под водочку?
— Только так! К моменту, когда с парашютом надо шагнуть в бездну, протрезвели. Для меня это был первый прыжок. Успокоили, что за кольцо дергать не нужно. Цепляешься в самолете за тросик — и парашют раскрывается сам. Приземлился нормально.
Сюда же, на берег озера Выртсъярв, другим самолетом планировали сбросить грузовые парашюты с боеприпасами, взрывчаткой, продовольствием. Но мы ничего не нашли. Рации тоже нет.
— Почему?
— Она полагалась лишь одной из четырех групп, с которыми так и не встретились. А у нас — автоматы ППШ, пять запасных дисков, пять «лимонок» и сухари в вещмешке. Командир принял решение немедленно уходить.
— Куда?
— В лес. Продержались почти месяц благодаря двум эстонцам, которые в 1940 году вылавливали «лесных братьев» и изучили местность. Продукты брали на хуторах, днем отсиживались в сараях, подвалах. Однажды услыхали, как в лесу кто-то громко ругается матом.
— По-русски?
— Конечно. Ринулись в ту сторону: «Наши!» Подошли ближе и обнаружили, что «наши» в немецкой форме. Каратели.
Голос командира: «Ложись! Огонь!» Укрылись за валунами. Нас обстреливали разрывными и трассирующими. Силы неравны, патроны быстро кончились. Смотрю — командир приподнялся, метнул гранату с криком: «За Родину! За Ст...» Договорить не успел. Очередью разрывных снесло голову. Рядом эстонец, вздохнул: «Лео, всё». Спустя мгновение залился кровью, фонтаном била из раны.
— А вы?
— В ладони последняя «лимонка». Выдергиваю чеку, думаю: «Сейчас сделаю то же самое, что командир». Закрываю на долю секунды глаза. И вижу, как плачет мама, провожая меня на фронт. Понимаю, что выпрямиться не могу.
— А «лимонка»?
— Отшвырнул за камень. Каратели окружили, подняли. Заметил, что один из них, контуженый, в меня целится. Между нами метров шесть. Но руки ходят ходуном, винтовку еле держит. Подскочил другой каратель, выбил ее ногой: «Своих перестреляешь!»
Следом вопль: «Дайте мне этого молокососа!» Расталкивая всех, бежит старый эстонец в ушанке. Злющий, с топором. Гадаю: обухом ударит или лезвием? Лицо знакомое, к нему на хутор, кажется, ходили за продуктами. Спас немецкий офицер, появившийся с ротой солдат. Рявкнул: «Прочь!» Старик исчез. А я опять со смертью разминулся.
Плен
— Что было в плену?
— Тарту, тюрьма. На допросе эстонский полицейский зачитал полный список нашего отряда. Уточнил, кто погиб, напротив фамилии проставил галочки. Меня осенило: нас ждали! Фашисты об операции знали всё!
— Откуда?
— В эстонском штабе партизанского движения был предатель. Я даже догадываюсь кто. Пожилой старшина по фамилии Кук — «петух» по-эстонски. Неприятный тип.
Из Тарту отвезли в Даугавпилс. К лагерю военнопленных нашу колонну вели через город. Шли по пятеркам, крепко держась за руки. Со всех сторон осыпали проклятиями.
— Кто?
— Женщины. Плевали, закидывали камнями, палками. Орали: «Сталинские бандиты!» Партизан в тех краях ненавидели.
— Сколько там пробыли?
— Недолго. Оттуда в Каунас, затем — Франкфурт, Эйзенах, Плауэн... По утрам отправляли на работы в город. В основном расчищали улицы после налетов авиации союзников. Стерегли нас четыре вялых старика с винтовками XIX века. Я сдружился с литовцем Ионасом и ленинградцем Володей, у которого не было правого мизинца — оторвало разрывной пулей. Втроем совершили побег.
— Поймали?
— Через полторы недели. Офицер что-то сказал двум автоматчикам, те повели к оврагу. Ионас побелел. Он знал немецкий, перевел: «В овраге отдыхает колонна пленных. Передайте беглецов конвоирам. Если там уже никого — расстреляйте». Но судьба снова хранила.
А в марте 1945-го в Плауэн вошли американцы. Я тогда впервые увидел негров. Они, как безумные, гоняли на джипах и были очень дружелюбны. Нас обнимали, целовали: «Рус! Рус! Вы свободны!»
— Что дальше?
— Город забит военнопленными. Многие русские, которых в начале войны увезли на работу в Германию, за эти годы обзавелись семьями, нарожали детишек. В Союз возвращаться желанием не горели, уезжали в Канаду и Австралию. Французы звали в Париж: «У нас такие девчата! Не пожалеете!»
— Устояли?
— С Ионасом и Володей сразу определились: только домой! Потянулась бумажная волокита, списки формировались долго. И мы решили податься на немецкие хутора. Договорились, что каждый подыщет себе хозяйство. Весна, посевная, везде требуется рабочая сила. Меня взяла фрау Эльза. Муж погиб на фронте, дочке Айне — 16 лет.
— Симпатичная?
— Красавица! Белокурая, голубоглазая. Честно, я влюбился. Чувствовал, это взаимно. Эльза говорила: «Лео, оставайся, хозяином будешь. У нас все есть. Куда ты рвешься? В Сибирь?» Но я был одержим идеей вернуться. Хотел увидеть маму. 19 мая 1945-го на студебеккере перевезли в советскую оккупационную зону.
— А барышня?
— О ней ничего не знаю. Мелькнула когда-то мысль разыскать Айну, выяснить, как сложилась судьба. Но подумал: зачем душу бередить? У меня чудесная семья, две дочери...
ГУЛАГ
— Когда вас арестовали?
— В 1948-м. Беды ничто не предвещало. Третий год дослуживал в армии. Из Плауэна до украинского городка Ковель наш стрелковый полк дошел пешком. Уже считал дни до демобилизации, как вдруг загремел в контрразведку. Начались допросы: «Рассказывай, как завербовали американцы? Какое задание? Кто резидент? Думаешь, поверим, что ты добровольно покинул Западную зону?!» Видите след на пальце?
— Ломали?
— Пытали каждую ночь. Зажимали пальцы дверью. Но в тот раз не рассчитали — я потерял сознание. Кожа лопнула, торчала белая косточка. Меня оттащили обратно в подвал, к двум таким же «американским шпионам». Дней десять не трогали. Палец зажил, обмотанный грязной тряпкой. Никакого врачебного вмешательства.
— Какие еще были методы, чтобы расколоть «шпиона»?
— Майор Федоров любил ребром ладони врезать по печени. Сажал в холодный карцер в одном белье. Надевал «шверниковские» наручники. Особенность их в том, что при малейшем движении впиваются в руки еще сильнее. До тех пор, пока штаны не станут мокрыми...
— Сколько это длилось?
— Три месяца. Наконец озвучили приговор: 25 лет лагерей. Когда в створках окна, словно в зеркале, увидел собственное отражение, отшатнулся. Вместо крепкого парня с пышной шевелюрой на меня смотрел лысый старик. И поехал по этапу: Киев — Москва — Свердловск — Красноярск — Норильск.
— Самый жуткий холод, который испытали на себе в ГУЛАГе?
— Минус 50. Пахали в две смены без выходных. Киркой и ломом долбишь слой вечной мерзлоты до скального грунта. В 12-метровый шурф, как в ледяной колодец, спускаешься вдвоем. Еще двое наверху, потом меняетесь. В эти шурфы заливали бетон и возводили дома, которые стоять будут вечно.
В Норильске в первый же день сказал себе: «50-градусный мороз, «черная пурга», усталость, отчаяние — плевать! Нужно работать, несмотря ни на что. Только так смогу выжить...»
— Что такое «черная пурга»?
— Поток ветра со снегом, обжигающий, сбивающий с ног. Зимой в Норильске обычное явление. Чтобы не обморозить лицо, надо обязательно прикрываться фанеркой. Если заметил, что у товарища оно побелело, сразу берешь снег, растираешь. Главное в лагере — обзавестись друзьями, которые в любой момент придут на помощь. Иначе ты обречен.
— Правда, что некоторые кололи себе керосин — лишь бы в стужу откосить от работы?
— Таких было немало. Обкалывали руки-ноги какой-нибудь дрянью, все опухало. Попадали в санчасть, где их не лечили. Оттуда была одна дорога — под гору Шмидта.
— ???
— Это кладбище, «Норильская голгофа». С 30-х по 50-е годы там хоронили заключенных. Сколько их — никто не знает. Точных цифр нет. К тому же территорию частично закатали асфальтом, понастроили дома. На трупах, представляете?! Об этом нигде не пишут.
— Помните день смерти Сталина?
— «Черт умер!» — так передавали друг другу новость, с трудом скрывая радость. Казалось, жить станет легче, но не тут-то было! Наоборот, в лагерях начался открытый террор.
— Почему?
— В МГБ стремились показать, что не зря едят свой хлеб. Режим ужесточили. Заключенных расстреливали, как дичь. Конвоиры, охрана на вышках убивали беспричинно. Оформляли как «попытку побега» и получали дополнительный отпуск либо премию. В мае 1953-го терпение лопнуло.
— Вы о норильском восстании?
— Да. Хотя более подходящее слово — забастовка. У нас же не было оружия. Просто объявили, что в таких условиях работать не будем. Держались до августа. С забастовщиками расправлялись жестоко, много прекрасных ребят полегло. Причем, где их могилы, до сих пор неизвестно.
— Когда вышли на волю?
— В феврале 1956-го. Спустя два года полностью реабилитировали. Помог отец. Он был знаком с генеральным прокурором СССР Руденко. Написал письмо, просил пересмотреть дело. А я сначала отработал токарем на заводе, потом поступил в МВТУ имени Баумана на факультет приборостроения. И до пенсии служил в главном вычислительном центре Минсудпрома.